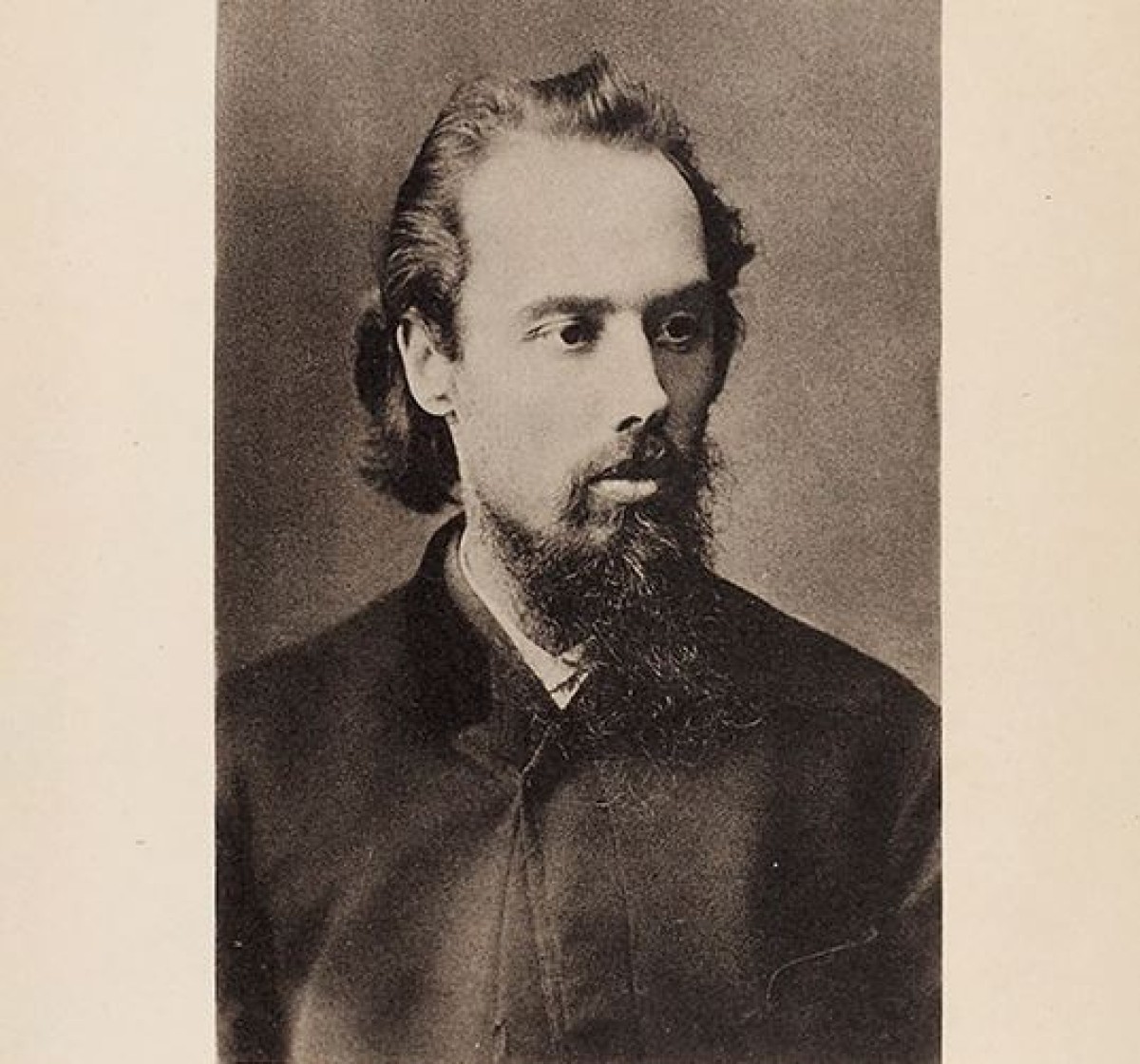
Портал Qazaqstan Tarihy продолжает знакомить с очерком Каронина (Н.Е. Петропавловского) «По Ишиму и Тоболу», изданного в конце XIX века в Москве. В работе писателя есть упоминания о взаимоотношениях казахского населения с крестьянами Курганского и Ишимского округов. Сам Николай Петропавловский был выслан в Сибирь, жил в Кургане Тобольской губернии и в городе Ишиме Ишимского округа. К сентябрю 1885 года он написал очерки «По Ишиму и Тоболу». Сочинения состоят из 7 очерков: Очерк природы, Очерк землевладения, Очерк культуры, Очерк переселений, Очерк отношений крестьян к земле, Очерк обрабатывающей и добывающей промышленности и Очерк будущего. В этой части автор перешел к возможно точному описанию типовых форм землевладения, бесспорно существовавшей в изучаемой местности Сибири, несмотря на беспорядочность, хаотичность и разнообразие в способах пользования земельными богатствами. Самое брожение это показывает, что кажущееся разнообразие имеет явное стремление принять типическую, однообразную и организованную форму землевладения.
Читайте также: Землевладение по Ишиму и Тоболу
Для удобства автор разделил все угодья на пахотные, сенокосные, выгоны, огороды, усадьбы, леса, озера и реки.
Пахотные земли, ближайшие к деревне, а часто и отдаленные, находятся в подворном владении, причем количество земли в исключительных только случаях соответствует числу душ, так что по своим размерам эти участки бесконечно разнообразны: доходя иногда до 50 десятин, они нередко содержат только одну-две десятины. На каждый двор приходится по нескольку таких участков в разных полях. Верховное право на них принадлежит общине, которая считает их мирскою собственностью; это идеально, но фактически они являются собственностью домохозяев, никогда не переделяются и передаются по наследству из поколения в поколение. Неравномерность этих участков сильно беспокоит крестьян, но они ждут ревизии.
Другая часть пахотных земель – это те места, которые почему-либо остались незахваченными, или в следствие их отдаленности, или в следствие других причин. Крестьяне называют их «вольными», потому что каждый имеет право брать их в пользование, хотя в большинстве случаев с известными ограничениями только на известное число лет. Мир этими землями распоряжается уже фактически; не стесняя в захвате их на известное число лет, он при случае отбирает их. Прирезки производятся на счет этих вольных земель, а не на счет подворных участков; последние крестьяне не трогают, боясь путаницы. Таким образом, вольные земли практически являются общинными; когда нет нужды, ими пользуется всякий, кто в силах, а когда необходимо, мир делит их, как это мы и видели, на лугах, которые крестьяне вздумали обратить в пашни.
Сенокосы также по существу двух родов. Одни, находящиеся по близости деревень или особенно ценные, хотя и удаленные от деревень, ежегодно переделяются по числу душ, причем самый механизм раздела ничем не отличается от способов дележки в русских губерниях.
Другие принадлежат к вольным лугам. Всего чаще эти сенокосы расположены на тех вольных землях, о которых только что сказано: между, кустарниками и по залежам, с незапамятных времен не знавшим сохи. По мелочам здесь всякий может косить; один-два воза не запрещаются. Но большее количество сена уже входит в сферу вмешательства мира. Обыкновенно, в таком случае практикуется следующий порядок.
Общим голосом деревни назначается день захвата этих вольных сенокосов, и рано утром в назначенный день все наличные работники собираются в условном месте за деревней. Когда все уже в сборе, подается сигнал, и вся масса косцов, сломя голову, скачет к местам сенокоса, где каждый и косит, сколько успеет и сможет, для чего каждый предварительно закашивает косой такой круг, какой успеет. И вот этот круг считается уже его собственностью. Известно, что порядок этот свойствен не одной Сибири, но, например, является распространенным обычаем среди уральских казаков, которые, в свою очередь, также, вероятно, не первые выдумали его. В Сибири, в описываемых здесь странах, он, должно быть, скоро отойдет в область предания, потому что частые ссоры, переходящие в драки, всем крестьянам наскучили. Медленно, но из года в год этот, так сказать, беспорядочный порядок заменяется ежегодным дележом по всем правилам деревенского землемерного искусства.
Выгоны или как их здесь называют «поскотины» (под скотины) находятся в общем пользовании. Миром нанимают пастуха для каждого стада, и он пасет порученный ему скот в поскотинах. Но пастьба длится здесь только до «бызовки». Это оригинальное слово звукоподражательного характера. Ко времени наступления жаров, когда появляются овод, слепень и другие жалящие насекомые, издающие известный звук, скот отбивается от рук; заслышав страшный для него звук, он в бешенстве кидается в рассыпную, и никакая сила уже не удержит его. Все это вместе и называется «бызовкой».
Бызовка делит выгоны на два разряда. О первом мы сказали. Второй состоит вот в чем: когда начинается бызовка, стада разбираются по рукам, и каждый владелец скота пасет своих животных отдельно, или отправляя их на заимки, если они у него имеются, или на собственные участки, которые расположены близ деревни. Затем, когда жар спадет, оводы пропадают, скот опять собирается в стада и пасется по скошенным лугам летом и на пашнях в начале осени. Понятно, что там, где, по местным климатическим условиям, овод не производит такого вреда, скот все лето пасется в стадах на общинных землях.
Огороды здесь не имеют большого значения, не представляя существенного элемента хозяйства. Но, тем не менее, они имеются в большинстве хозяйств. При этом, те огороды, которые непосредственно примыкают к деревне, состоят в наследственном пользовании каждого дома и совершенно изъяты из сферы власти мира; они никогда не переделяются, не отрезываются и не прирезываются, да, по своей незначительности и ничтожной роли в хозяйстве, этот род угодий никогда и не вызывает недоразумений; только бабы иногда возбуждают по поводу капустников пререкания между собой. Когда же является надобность отрезать место под огород для нового хозяйства, то пустопорожнее место всегда находится возле деревни.
Кроме этого, есть много любителей репы или моркови, которым обыкновенный огород кажется неудовлетворительным; тогда они садят овощи на полях, вдали от деревни, очень часто на вольных землях, не встречая никакого возражения со стороны односельчан.
Усадьбы и права владения ими соответствуют всему, что сейчас рассказано о других родах угодий. Они также разделяются на два порядка, смотря по силе власти мира над ними. Усадьбы, на которых стоят дома и другие постройки деревни, находятся в личном владении каждого домохозяина, переходят наследственно из поколения в поколение, передаваясь иногда даже по духовному завещанию. Если обществу встречается необходимость отвода новой усадьбы под строения нового семейства, то земля всегда отыскивается среди пустопорожних мест, никем в частности не занятых и принадлежащих вообще деревне.
Другой род усадеб – это, так называемые, заимки с таким правом давности (они возникли сотни лет назад), что их не трогают ни в каком случае, ожидая для их раздела ревизии; они передаются из поколения в поколение и не входят в круг вмешательства общества. На них строятся избушки, овины, сараи, гумна, и никто не считает себя вправе выражать на это неудовольствие. Но большинство заимок, более позднего захвата и более мелкие по своим строениям, признаются собственностью домохозяина только до тех пор, пока он не бросил их, а затем они или делаются вольными, или поступают в полное распоряжение мира. То же самое можно сказать и о землях, принадлежащих к этим заимкам. Так, у знакомого крестьянина сгорела заимка, состоящая из избушки и сарая, а вместе с этими постройками сгорели и две его лошади, на которых в этот день семья приехала в поле на работу. Крестьянин сильно обеднел и не в силах построить новую заимку; и если некоторое время снова не займет ее, то она перейдет в распоряжение мира или в качестве вольного места будет занята другим.
Леса не являются исключением из общего порядка. Одни из них с незапамятных времен разделены по дворам, за которыми и закрепились неподвижно. Участки эти, разумеется, неравномерны, редко находясь в соответствии с количеством душ двора. Лежат они преимущественно недалеко от деревень, чем отличаются своим хорошим качеством. Пользование ими не ограничено никакими стеснениями; всякий владелец может бесконечное число лет растить свой лес, но может и до чиста его вырубить, выкорчевать и обратить под пашню или покос, может даже просто опустошить свой участок беспорядочно, и никто слова ему на это не скажет. Тем не менее, крестьяне ждут только ревизии, чтобы уровнять лесные дачи пропорционально количеству душ.
Все остальные леса, не вошедшие в наследственные участки по отдаленности или вследствие малой ценности, принадлежат к числу вольных. Никто не станет возражать из односельчан, если крестьянин вырубит из этих лесов какие-нибудь мелочи для хозяйских нужд - оглобли, ось, корягу для дуги или воз прутьев для плетня. Во многих местах до последнего времени были даже такие лесные дачи, из которых каждый мог рубить дров сколько ему нужно. Но в большинстве случаев для крупных порубок назначается время и место, и лес делится препуциально числу душ.
Озера и реки с каждым годом теряют свое значение угодий, вследствие постоянного уменьшения рыбы в них, но пока они все-таки должны идти в счет. На обыкновенных озерах каждый крестьянин имеет право ловить рыбу сколько может и какими угодно снастями. Делом этим заняты по большей части одни старики, неспособные уже к другой работе.
Что касается рыбных озер, то мир распоряжается ими на правах общинного угодья; отдает их в аренду или оставляет за собой, эксплуатируя собственными силами всех общинников. Вся деревня составляет артель, в которой каждый имеет известные обязанности при неводе; иногда общество разбивается на несколько артелей, причем каждая артель имеет свою организацию, а все вместе подчиняются общине, которая делит все озеро на участки, достающиеся каждой артели по жеребью. Затем уже каждая артель делит улов между своими членами.
Итак, вот та типическая форма сибирского землевладения, которая в большинстве случаев покрывает собою все явления, относящиеся к землевладельческим порядкам, хотя иногда целиком и не совпадает с действительным ходом вещей, то удаляясь от общего типа, то приближаясь к нему.
Рассматривая эту форму землевладения, мы, прежде всего, замечаем, что, за исключением сенокосов и вод, все роды угодий делятся в неизменном порядке на два класса: один класс заключает в себе постоянные, непеределяющиеся и наследственно передаваемые участки, на которые община простирает свое верховное право только в прошедшем и будущем, не вмешиваясь в настоящем; община во всем составе своих членов помнит, что некогда эти земли принадлежали всем общинникам вообще и что они всегда будут принадлежать миру и на будущее время. При первом удобном случае, например, при всеобщей переписи, они отойдут к общине и переделятся снова, сообразно с новым составом населения.
Другой класс угодий заключает в себе земли вольные, подлежащие праву захвата каждым общинником, и земли, состоящие в полном распоряжении общины. Ясно, что оба эти вида земель отличаются друг от друга только по той степени власти, какая простирается на них со стороны общины. Вольные земли – это тот фонд, из которого удовлетворяются вновь нарождающиеся нужды. Когда является необходимость прирезки, это совершается на счет вольных земель; когда заимка на вольной земле оказывается нужной общине, то последняя отбирает ее; когда, наконец, настает необходимость правильно разделить все вольные земли, то они и разделяются.
Другая черта, замечаемая нами в сибирском землевладении и прямо вытекающая из первой, состоит в своеобразном смешении наследственности с переделом, частной собственности с верховною властью мира, индивидуальности с солидарностью. Раз мир наделит своего сочлена землей, он уже не вмешивается в пользование ею; каждый имеет право передать землю своим детям без участия общины; каждый может с своим наделом делать что угодно - вырубить лес, засеять пашню каким ему хочется родом хлеба, до всего этого миру нет ни малейшего дела. Но мир вообще и каждый член его в частности знают, что, при всеобщей надобности, участки смешаются в общую массу общинной земли и снова переделятся, как переделяются теперь ежегодно или через несколько лет те сенокосы и вольные земли, которыми фактически и постоянно распоряжается мир.
На основании всего только что сказанного мы уже и теперь можем указать тот путь, по которому пойдет сибирская община в описываемой стране, и тот тип, к которому постепенно приближается сибирское землевладение.
Вольные земли, составляющие до сих пор предмет захвата, со временем все более и более будут переходить в фактический контроль общества, причем сенокосы войдут в общую массу ежегодно переделяющихся угодий, а пахотные земли обратятся в участки, фактически принадлежащие отдельным домохозяевам, хотя с юридическою властью общины.
Теперешние отдельные участки при первом удобном случае снова разверстаются по началам справедливости, но затем опять на долгое время перейдут в отдельное пользование каждого общинника, без мелочного вмешательства общины, без страха отчуждения их в другие руки.
Другие угодья примкнут к этим двум классам, смотря по характеру своему; так, леса, вероятно, после нового раздела опять будут розданы по отдельным рукам и на долгие времена, а выгоны останутся общинным достоянием ежегодно.
В этом направлении и теперь уже во многих обществах идет горячая борьба и возбуждение. И если пока мы можем назвать несколько волостей, где эта борьба кончилась какими-нибудь результатами, то это потому, что крестьяне боятся путаницы, которая может произойти от общего передела, не надеются собственными силами уладить дела общины и ждут высшей, государственной санкции. Эта боязнь основательная. В самом деле, представим себе, что в каком-нибудь обществе начался общий пересмотр владений; но одно существование мертвых душ внесло бы такую путаницу, что превратило бы деревню в ад.
Насколько сибирская форма землевладения, сейчас описанная, способствует введению интенсивной культуры и в какой мере эта культура уже существует?
Добрую половину этого вопроса мы сочли бы праздною шуткой, неуместною под пером уважающего себя исследователя, но, в виду раздающихся с некоторых сторон жалоб на хищничество сибирского мужика и обвинений его в полной неспособности в культурной предусмотрительности, мы ответим на этот вопрос.
В сибирской деревне мы нашли общину глубоко сознающею свои верховные права на землю, но не позволяющую себе вмешиваться в отдельные хозяйства своих сочленов; мы нашли дух солидарности, своеобразно соединенный с духом свободы для каждой индивидуальности; мы узнали, что во владении своею землей каждый может производит какие угодно операции. Несомненно, что такая форма очень удобна для введения интенсивной культуры. Пользуясь своим участком неопределенно долгое число лет, на протяжении, по крайней мере, двух поколений, работник не может опасаться за целость произведенных улучшений; не встречая со стороны мира мелких придирок, постоянных ограничений и вмешательства в его земледельческие работы, он может в полной мере считать себя свободным и в состоянии делать какие угодно опыты на своем участке.
Почему же в Сибири нет даже признака интенсивного хозяйства? Потому, что в этом до сих пор не было надобности. Когда под руками есть неизмеримый простор полей, когда земля богата черноземом, когда этот чернозем не истощен, тогда нелепо было бы требовать от крестьянина интенсивной культуры. Колонисты Запада, Америки и Канады, помещик Венгрии и нашей Малороссии также практикуют залоговое хозяйство, распахивая новые земли и забрасывая на много лет старые, но их никто не обвиняет в хищничестве. Придет время - и это хозяйство примет высшую культуру, как примет ее в свое время и русский крестьянин и сибиряк. А теперь этот крестьянин был бы помешанным безумцем, если бы, в виду простора, сел на маленький клочок земли и ухаживал бы за ним с ревностью французского крестьянина, имеющего два акра.
Недавно в одной из деревень Ишимского округа, вблизи города, произошло такое событие. Крестьяне этой деревеньки, видя, что их хлеб то подмерзает, то вымокает и вообще плохо родится, решили общим голосом и общими силами удобрить землю. И начали они возить на поля навоз, возили день, два, целый месяц; свозили сотни тысяч возов; свезли все, что было в деревне вонючего, и стали ждать следствий. К их удивлению, хлеб почти вовсе перестал родиться, на унавоженных местах выросла такая густая и высокая трава, что походила на лес, трава-лес с невероятною силой душила хлеб, пока крестьяне не решились бросить, наконец, это ужасное место.
Крестьяне в этом случае сыграли роль Иванушки; они смутно слыхали, что землю можно удобрять; слыхали, что для этого употребляется навоз, и решили сделать опыт, упустив из виду, что земля их и без того богата, что посевы страдают от климатических условий и что против климатических влияний есть другие меры, в число которых ни в каком случае навоз не входит.
Хищническое истребление лесов бесспорно, но оно зависит от другой причины, более глубокой, более общей и более печальной, нежели отсутствие интенсивного хозяйства, - мы разумеем потерю сибирских богатств без всякого результата для умственного развития сибирского крестьянина.
